РЕАЛИЗАЦИЯ БИНАРНОЙ ОППОЗИЦИИ «СВОЙ - ЧУЖОЙ» В РОМАНЕ Э. ГИЛБЕРТ «ЕСТЬ, МОЛИТЬСЯ, ЛЮБИТЬ»
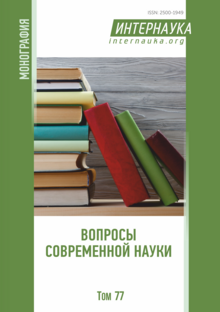
РЕАЛИЗАЦИЯ БИНАРНОЙ ОППОЗИЦИИ «СВОЙ - ЧУЖОЙ» В РОМАНЕ Э. ГИЛБЕРТ «ЕСТЬ, МОЛИТЬСЯ, ЛЮБИТЬ»
Сапченко Наталья Анатольевна
Противопоставление образа «чужих» образу «своих» которое, по известному высказыванию Ю.С. Степанова, «пронизывает всю культуру и является одним из главных концептов всякого коллективного, массового, народного, национального мироощущения» [5, с.126] находится в фокусе исследования разных научных дисциплин: философии, социологии, психологии, этнологии, лингвистики, и др. В эпоху глобализации, образ «иного», «чужого» этноса, страны и их представителей получил особую актуальность. Сегодня можно говорить о существовании отдельной сферы научного знания, занимающегося данным вопросом – об имагологии.
Известный российский литературовед В.А. Хорев видел задачу имагологии в том, чтобы «выявить истинные и ложные представления о жизни других народов, характер и типологию стереотипов и предубеждений, существующих в общественном сознании, их происхождение и развитие, их общественную роль и эстетическую функцию» [6, с.7]. В свою очередь, А.Р. Ощепков определяет имагологию как «сферу исследований разных гуманитарных дисциплин, занимающуюся изучением образа «чужого» (чужой страны, народа и т.д.) в общественном, культурном и литературном сознании той или иной страны, эпохи» [4, с.25].
В данной статье рассматривается ситуация, когда в создании образа чужой страны и формировании представления о чужом национальном характере принимает участие персонаж-иностранец, носитель иной культуры и менталитета, сталкивающийся с истинными и ложными стереотипами восприятия одного народа другим.
Книга мемуаров Э. Гилберг «Есть, молиться, любить: Один год из жизни женщины в путешествии по Италии, Индии и Индонезии» (2006 г.) представляет собой описание путешествия главной героини, американской писательницы Лиз, в чужое пространство с целью понимания мира Других и постижения себя и своего наличного бытия. Столкнувшись с кризисом идентичности после болезненного развода и неудавшегося романа, героиня движима стремлением понять смыслы иного существования, сравнение с которым даст ей возможность отрефлексировать собственную жизнь, и выстроить способ собирания своего «Я».
На пути к этой цели, героиня преодолевает границу двух типов ценностно различающегося бытия: «своего» - знакомого, стабильного, предсказуемого и «чужого» - вызывающего, с одной стороны, ее восхищение и удивление а, с другой стороны, растерянность и настороженность. Граница есть важнейшее условие продвижения человека к цели, стремление осмыслить итоги распада предшествующих связей, выбор собственной траектории движения в незнакомом пространстве, предоставляющем целый веер новых возможностей. Это точка перехода от одного состояния к другому, ситуация сопряженного с рисками и конфликтами поиска, в котором и осуществляется процесс развития личности.
Описание «своего пространства» героини в очень лаконичной форме приводится в самом начале произведения: «…the prestigious home in the Hudson Valley, the apartment in Manhattan, the eight phone lines, the friends and the picnics and the parties, the weekends spent roaming the aisles of some box-shaped superstore of our choice, buying ever more appliances on credit» («…престижный дом в Хадсон-Вэлли, квартира на Манхэттене, восемь телефонных линий, друзья, пикники и вечеринки, уикэнды, проведенные в магазинах очередного торгового центра, похожего на гигантскую коробку, где можно купить еще бытовой техники в кредит») [8, с.13].
Лиз предъявляет картину обезличенного, стандартизированного на американский манер пространства, с перечислением фактов максимально комфортного существования в социуме. Она отмечает простор своего места проживания - старого нью-йоркского квартала с видом на вход в тоннель Линкольна. Нью-Йорк предстает как ультрасовременный гигантский город панорамных видов, не отягощенный многовековыми наслоениями исторических и архитектурных эпох. Это пространство фешенебельных районов, широких авеню, дорогих ресторанов, голливудских фильмов, комиксов в «Нью - Йоркере» и бейсбольных полей.
Вместе с тем, оно кризисное, полное внутренних конфликтов и противоречий, где происходят теракты и войны, разводы и измены, где живут состоятельные и успешные люди (баловни судьбы из Нью-Йоркских пригородов), сделавшие удачную карьеру, имеющие беспрепятственный доступ ко всем благам цивилизации и, тем не менее, неспособные получать удовольствие от жизни. Несовершенство этого типа бытия разрушает человека изнутри, вынуждая его вести иллюзорное существование, приближающее его к неизбежному разочарованию.
Реалиями нью-йоркской жизни являются зависимость героини от антидепрессантов, ее четырехмесячные бессонницы, нервные срывы, мысли о самоубийстве и слезы. Лиз замечает, что начинает смотреть на мир как на «темную дыру бездонного горя» («a murky hole of bottomless grief»)[8, с.24] затравленным «взглядом беженцев» («the eyes of refugees»)[8, c.13]. Ее психологическое состояние описывается следующим образом: «I felt like I was some kind of primitive spring-loaded machine, placed under far more tension than it had ever been built to sustain…» («Я чувствовала себя простым пружинным механизмом, который поместили под гораздо большее давление, чем он может выдержать»)[8, с.26]. Не покидающее Лиз ощущение тотального одиночества концентрируется и достигает своего пика в ее собственном сравнении с человеком, пережившем глобальную катастрофу: «the only survivor of a nuclear winter» («единственно выжившая после ядерной зимы») [8, с.26].
Не менее драматичными выглядят откровения Лиз, в которых она уподобляет себя находящемуся в неволе и подвергаемого физическим и нравственным пыткам узнику: «I came to fear nighttime like it was a torturer’s cellar» («Я боялась ложиться спать, как заключенный боится камеры пыток») [8, c.26]. Этот образ получает свое логическое завершение в очередном мрачном высказывании Лиз: «I served my time back in New York» («Я отсидела свой срок в Нью-Йорке») в котором она констатирует факт безрадостного и бессмысленного пребывание в этом городе [8, с. 63]. Образ Нью-Йорка, современной Столицы Мира и планетарного центра вселенной постепенно перерастает в образ мегаполиса-тюрьмы, сковывающего проявления человеческой природы и постепенно трансформируясь в мрачную картину недолжного бытия.
Героиня, являясь частью этого мира, задыхается в нем, находится в постоянном напряжении, испытывает эмоциональное опустошение и деградацию собственного «Я». Ей требуется смена обстановки, то, что потом будет выкристаллизовано в итальянском глаголе «attraversiamo» - «давайте перейдем», т.е. в широком понимании, «давайте сменим тему разговора, стиль и образ жизни». Лиз предпринимает бегство в Италию как попытку преодоления духовного кризиса и поиска эстетического идеала.
Италия и, прежде всего Рим, представляют собой альтернативную модель мира которая, поначалу, осмысливается героиней скорее как абстрактная идея, чем реальное пространство. Лиз создает собственный «итальянский мираж», придавая преувеличенно положительное значение реалиям итальянской жизни. Она идеализирует страну своей мечты, мифологизируя и наделяя ее исключительно позитивными оценками и характеристиками. Италия для нее – это, прежде всего, ряд стереотипов: страна-рай, страна-музей, страна уникальной средиземноморской кухни, место, где доминирует культ наслаждения и красоты, где обретается сообщество веселых и беззаботных людей, говорящих на самом красивом языке в мире.
Ориентированность героини на стереотипы, связанные с эмоциональным восприятием незнакомой среды, представляется вполне естественной, так как помогает оказавшейся в критической ситуации молодой женщине структурировать сложный внешний мир, а значит, упрощает процесс постижения реальности. Более того, стереотипное восприятие окружающей действительности будет постепенно накладываться на личный опыт героини, помогая ей из разрозненных картинок внутреннего зрения формировать собственный образ чужой страны.
Свое постижение миропонимания и миропорядка Италии героиня начинает с освоения «нижних ярусов» чужого пространства - природы, быта и, особенно, пищи. Неторопливое ознакомление с этими доминирующими составляющими «итальянского мира» способствует плавному погружению в иную культуру и выявлению различий в американской и итальянской картине мира и человека, т.к. «предметы быта … сочатся содержанием национального бытия …, и из этой материи тоже надо научиться вычитывать смыслы» [2, с. 17].
Роман начинается с пространственной характеристики живописного уютного уголка Рима, где остановилась Лиз: «...back streets of Rome, which meander organically around the ancient buildings like bayou streams snaking around hadowy clumps of cypress groves» («…римские закоулочки, петляющие вокруг старинных зданий, подобно змейкам-ручейкам в тенистых зарослях кипарисовых рощ»)[8, с.9], которая постепенно конкретизируется и уточняется: «The apartment I’ve found is a quiet studio in a historic building, located just a few narrow blocks from the Spanish Steps, draped beneath the graceful shadows of the elegant Borghese Gardens, right up the street from the Piazza del Popolo, where the ancient Romans used to race their chariots» («Нашла тихую студию в старинном здании всего в нескольких узких улочках от Испанской лестницы под кружевным тенистым балдахином роскошного сада Боргезе, прямо напротив пьяцца дель Пополо, где древние римляне устраивали гонки на колесницах») [8, с.45].
Этот лаконичный фрагмент, описывающий «чужое», необычно организованное для персонажа пространство, в отличие от аналогичной нью-йоркской картины, не только предельно топографически точен и интересен в плане пространственной организации, но и представляет собой целый сгусток ассоциаций и реминисценций. Поразительная глубина исторической и культурной перспективы античного, средневекового, ренессансного Рима является уникальной чертой древнейшего европейского города в противовес ультрасовременному американскому, не отягощенному многовековыми наслоениями.
Упомянутая в тексте Испанская лестница является шедевром поздней барочной архитектуры 18 века, смело врезанная в городскую застройку и мощно распространяющаяся своими маршами в окружающее пространство. Сад Боргезе, один из самых обширных ландшафтных парков Вечного Города и яркий шедевр садово-паркового искусства, расположенный на холме Пинчо, доминирует над местностью. На территории парка расположены многочисленные фонтаны, вековые деревья, пруды, оранжереи, павильоны, скульптуры, роскошная папская вилла с художественной галереей старых мастеров. Пьяцца дель Пополо – площадь, с одной из сторон ограниченная одноименными воротами, через которые на протяжении столетий прибывала в Рим основная часть путников и паломников. Первое впечатление о городе гости и пилигримы формировали во многом благодаря именно этой легендарной и отчасти мистической площади где по преданию похоронен император Нерон, призрак которого, по слухам, до сих пор встречается одиноким путникам. Площадь соединена с холмом Пинчо пространственной вертикальной доминантой - Наполеоновской лестницей, отсылающей к имени на этот раз чужеземного императора, спровоцировавшего драматические события итальянской истории 19 века. В центре площади находится один из египетских обелисков, устанавливаемых для того, чтобы выделять значимые места в столице империи от которого радиальным трезубцем идут центральные улицы как бы призывая к путешествию по городу и предоставляя веер возможных маршрутов для освоения пространства Рима. Колонны, скульптуры, подпорные стены, террасы и лестницы создают удивительный эффект движения вверх, формируя динамичное взаимодействие вертикалей и горизонталей пространства этого сложного архитектурного комплекса.
Героиня, находясь в кризисной нестабильной жизненной ситуации, непроизвольно выбирает такое место пребывания в городе, которое соответствует ее внутренним переживаниям. Ее тихая студия соседствует с развилками улиц, символизирующих неизбежность выбора из разных альтернатив и принятия решений, с лестницами, олицетворяющими ситуации перехода от низа к верху, от центра к периферии, от внутреннего к внешнему, с площадью традиционно воспринимаемую как место встреч и расставаний. Пространственная организация текста, объединяя исторический, архитектурный, культурный, психологический контексты романа, максимально точно передает напряженное состояние пребывания персонажа в некоей точке бифуркации, когда возможны качественные внутренние перестройки и метаморфозы, переход от хаоса к упорядоченности и устойчивости, от неопределенности к обретению новых смыслов и целей.
Один из ярких стереотипов восприятия Италии главной героиней является образ этой страны как райского места с роскошной природой, благодатным климатом и наслаждающимися этими красотами людьми. «…Рай – это место, где нет труда, где обилие всего, где поют птицы и цветы не только украшают, но и распространяют благовоние», пишет Д.С. Лихачев [3, с.62]. Именно таким видится Рим для Лиз: городом - садом, символизирующим собой Эдем на земле, жизнь в котором проходит вне мирской суеты; где произрастают апельсиновые деревья с золотистыми плодами – важными атрибутами рая, где на обычной автобусной остановке возможна мистическая встреча с неземными, потусторонними сущностями (именно так воспринимается героиней краткое, но кажущееся ей символичным, общение с немолодой незнакомой итальянкой по имени Селестия, восходящего к латинскому прилагательному caelum – «небесный», «божественный»).
Мотиву «земного рая» сопутствуют также синонимические понятия «наслаждение» и «блаженство». Италия для Лиз, американки с врожденным чувством пуританской вины и склонностью к чрезмерному планированию, это, прежде всего, пространство гедонизма, где местные обитатели в совершенстве владеют искусством жить в свое удовольствие и наслаждаться каждым мгновением бытия: «I was drawn to the idea of living for a while in a culture where pleasure and beauty are revered» («Меня привлекла идея пожить какое-то время в стране, где существует культ наслаждения и красоты») [8, с.36]. Сама она, воспитанная в протестантской парадигме, поначалу просто впадает в панику от мысли о том, что можно жить не создавая ничего продуктивного: «I felt a bit of panic» (Я чувствовала некоторую панику) [8, с.79]
Между тем, ее знакомые итальянцы пытаются объяснить Лиз популярное идиоматическое выражение il bel far niente – «прекрасное ничегонеделание», «радость ничегонеделания», обозначающее особый вид «времени», когда они сибаритствуют: не смотрят телевизор, не читают, не спят, а просто наблюдают за окружающей их жизнью за чашкой кофе или бокалом вина. С их точки зрения, это не безделье в прямом смысле этого слова – это их личное время, чтобы расслабиться и «перезарядиться» для дальнейшей работы: « … il bel far niente has always been a cherished Italian ideal. The beauty of doing nothing is the goal of all your work, the final accomplishment for which you are most highly congratulated. The more exquisitely and delightfully you can do nothing, the higher your life’s achievement» («… il bel far niente всегда оставался благословенным итальянским идеалом. Радость ничегонеделания – это цель всей вашей работы, финальное достижение, за которое ждет самая высокая награда. Чем более изощренно и самозабвенно вы предаетесь безделью, тем выше ваши жизненные достижения») [8, с.80-81].
Этот истинно итальянский подход к жизни нашел отражение в известной картине 1907-го года американского художника Джона Сингера Сарджента «Dolce Far Niente», где изображены люди, лежащие на траве у альпийского ручья. Несколько человек играют в шахматы, остальные наблюдают за процессом или просто отдыхают. Художественное полотно хорошо иллюстрирует итальянскую философию жизни, которая гласит: «наслаждайся каждым моментом и не спеши; умей видеть прекрасное в происходящем» и перекликается с рассуждениями друзей Лиз об одной из особенностей их национального характера: «We are the masters of il bel far niente» («Мы настоящие мастера в том, что касается il bel far niente») [8, с.80].
Архетипический мотив «земного рая» включает в себя и упомянутую в тексте мифологему «dolce vita», вошедшую в обиход после успеха одноименного фильма Ф.Феллини в 1960 году и представляющую Италию как благополучную, изобилующую излишествами, блистающую элегантной аристократией страну. Мода, опера, кино, шикарные автомобили, горнолыжные курорты - вот далеко не полный перечень завораживающих иностранцев, атрибутов «сладкой жизни». Лиз с сожалением осознает, что не может охватить все грани итальянского образа времяпрепровождения: «There are so many manifestations of pleasure in Italy, and I didn’t have time to sample them all» («Существует так много различных удовольствий в Италии, но у меня не было времени все их испробовать») [8, с.82]
Мотив фонтанов также поддерживает мифологему Рима как райского места на земле. Фонтан (от лат. Fons – источник, родник, начало, первопричина), традиционно располагающийся в центре итальянских площадей, внутренних двориков замков и монастырей представляет собой космический центр, подобный главному роднику в раю и являющийся не только источником живительной влаги, но юности и бессмертия. Вода в фонтане бьющая вверх вопреки законам физики являлась необходимым атрибутом Эдемского сада и осмысливалась как элемент чудесного и необъяснимого, символ «вечной жизни», воплощение Бога и аллегория глубинного смысла веры. Фонтан – это не только лекарство от стрессов и городской суеты, оазис покоя и место для созерцания, но и ось, соединяющая верх и низ, жизнь земную и небесную, «добро» и «зло», вертикаль, объединяющая церковь и общество.
Героиню изумляет многообразие и великолепие римских фонтанов: античных, переполненных языческой радостью и эротикой, ренессансных, многоярусных, отражающих христианские представления о мироустройстве, современных, выполняющих функцию архитектурных реалий урбанистического пейзажа. В тексте встречаются упоминания о восьми знаменитых фонтанах, и всегда это служит поводом либо для восторга героини перед уникальным творением человеческого гения, либо для ее рефлексии по поводу собственных поступков.
Лиз с должным пиететом цитирует Плиния Старшего, отмечающего, что нигде в мире нет такого изобилия воды, как в Риме и с юмором описывает свой любимый фонтан со скульптурами фавнов на вилле Боргезе, в семантику которых внесен некий элемент несерьезности и игры. Фонтан на площади Барберини со скульптурой сексуального тритона, дующего в морскую раковину, и роскошный фонтан с нимфами и лебедями на Пьяцца делла Реппублика Лиз воспринимает как манифестацию грешного и почти порнографического, но тоже имеющего право на существование в пестром и разнородном пространстве Рима.
В одном из эпизодов героиня любуется еще одним, как бы нерукотворным, созданным самой природой фонтаном: «It was not carved of imperial marble … . This was a small green, mossy, organic fountain. It was like a shaggy, leaking bush of ferns. The water shot up out of the center of this flowering shrub, then rained back down on the leaves, making a melancholy, lovely sound throughout the whole courtyard» («Он не был вырезан из императорского мрамора … . Это был маленький зеленый, поросший мхом, естественный фонтан. Он напоминал косматый куст папоротника, из которого вытекают струйки. Вода взметнулась из центра этого цветущего куста, и потом дождем полилась на листья с меланхоличным, чудесным звуком разносившимся по всему дворику») [8, с.50-51]. Сидя у этого фонтана, под сенью апельсинового дерева (являющимся наряду с яблоней символом грехопадения человека и искупления греха) во дворике старинной библиотеки Лиз читает переведенный на итальянский язык поэтический сборник Луизы Глюк. Строчка «Dal centro della vita venne una grande fontana» («Из центра моей жизни забил большой фонтан») [8, с. 51] оказывает экспрессивное воздействие на чувства молодой женщины, воспринимающей эти слова как некое пророчество и проявление действий Бога, являющееся залогом обновления героини и ее возвращения к жизни в согласии с собой и людьми.
Помимо разнообразных фонтанов, воображение Лиз поражает огромное количество памятников прошлого, достопримечательностей, которые она не успевает фиксировать. « …I can’t keep them (churches) straight – St. This and St. That, and St. Somebody of the Darefoot Penitents of Righteous Misery … I cannot remember the names or details of all these buttresses and cornices is not to say that I do not love to be … » («… все они смешиваются у меня в голове – святой тот и этот и прочие святые Некто Кающиеся Грешники Праведного Страдания. Я не могу запомнить названий или деталей всех этих контрфорсов и карнизов») [8, c.119].
Рим для героини – это город-музей, который она воспринимает в связи с эпохальными событиями и именами представителей знатных фамилий, видит город в исторической перспективе от античности до современности, предлагая очень личную интерпретацию понятия «Eternal City» («Вечный город»). Так при созерцании мавзолея Августа, памятника расцвета империи, у героини возникает ассоциативный ряд, включающий имена великих деятелей античности, средневековья и новейшего времени. Пьяцца дель Пополо, в представлении Лиз, неразрывно связана с такими историческими личностями как Бернини, Караваджо, шведская королева Софи.
Однако, при всем уважении к славному прошлому Рима и его настоящему великолепию, Лиз воспринимает столицу Италии как «провинцию» по отношению к «центру» современной жизни - Нью-Йорку. «Of course, this district doesn’t quite have the sprawling grandeur of my old New York City neighborhood, which overlooked the entrance to the Lincoln Tunnel, but still ...» («Конечно, здешним улицам далеко до необъятного величия моего старого нью-йоркского квартала с видом на вход в тоннель Линкольна, но все же…») [8, с.45]. Противопоставление Рима Нью-Йорку как бывшего и современного центра мира, имперских столиц, шумных многолюдных агломераций, двух городов с вселенскими притязаниями на доминирование кажется героине совершенно очевидным. Носителем концепции caput mundi - мессианской идеи Древнего Рима сегодня стала Америка, а сам Вечный город сместился на окраину современной цивилизации и утратил свои лидирующие позиции. Схема взаимодействия «центра» и «периферии» диалогична и характеризуется гибкостью, сложностью и нелинейностью социокультурных процессов. Исторические судьбы великих городов, их взлеты и падения демонстрируют концентрацию культурного потенциала «центра» с последующим его распределением на периферию, стремящуюся к его поддержанию в качестве обратной связи.
Героиня понимает, что о провинциализме по отношению к Риму можно говорить только условно, так как это понятие носит скорее не географический или духовный характер, а заключается в социальной инертности, неспешном и размеренном ритме жизни людей, спокойном и безмятежном течении их дней. Отмечая в местных обитателях такие элементы провинциальности как простодушие, созерцательность, жизнерадостность, открытость, духовность Лиз не видит в этом чего-то примитивного и «отставшего» от современных стандартов, она понимает, что в бытии итальянцев мерцают отблески Древнего Рима. В отличие от этих людей, воспринимающих жизнь во всех ее проявлениях, героиня является всего лишь «столичным созерцателем» провинциальной экзотики. Ее ощущение от пребывания в Риме как окраины современного динамично развивающегося социума совпадает с ощущением пребывания на периферии, а не в центре истины, которую она пытается обрести. Лиз с сожалением резюмирует: « … I really loved the place, of course, but somehow knew it was not my city, not where I’d end up living for the rest of my life. There was something about Rome that didn’t belong to me, and I couldn’t quite figure out what it was» (« … мне здесь, конечно, очень нравилось, но в глубине души я понимала, что это - не мой город, не то место, где я хотела бы прожить остаток дней. В Риме было что-то такое, что не совсем согласовывалось с моей натурой и я не могла понять, что именно») [8, с.136]. В этом плане дихотомия «центр» – «периферия» важна не только для понимания диалектики развития великих цивилизаций, но и пространства человеческой души.
Эти размышления Лиз вновь возвращают нас к идее Рая, и наводят на мысль о том, что в каком-то смысле провинциален любой житель Земли, потому что каждый из нас живет в некоем уголке обитаемого мира, очень удаленного от его изначального центра, а именно от Эдема, который вынуждены были покинуть прародители человечества. И, в этой связи, очень важен вопрос о том, как ощущается человеком его удаленность от места сосредоточения многочисленных благ. У каких-то людей и социальных групп провинциальность является одним из острых доминирующих движущих мотивов к изменению наличной ситуации (как, например, у итальянцев), у кого-то, как у американцев, которые тоже в определенном смысле провинциальны, она их совершенно не волнует.
Лиз замечает, что еще одной ипостасью рая и состояния «il bel far niente», связанной с идущей из глубины веков коллективной мечтой об отдыхе и блаженстве, является необыкновенно трепетное отношение итальянцев к отечественной кухне. Гастрономическая культура местных жителей, берущая начало в античности, где прием пищи рассматривается как уникальное кулинарное событие, является предметом гордости и результатом сложной и длительной эволюции процесса приготовления еды.
В первой части повествования, имеющей заглавие «Ешь», Италия, со всей очевидностью, предстает через амплификацию кулинарной метафоры. Апеннинский полуостров для героини – это гастрономический рай, а средиземноморская еда – пища богов: « … a frozen rice pudding (and if they don’t serve this kind of thing in heaven, then I really don’t want to go there».) « … замороженный рисовый пудинг (и если в раю его не подают, тогда я действительно не хочу в рай») [8, с.73]. Героиня жаждет приобщиться к культуре Италии через невероятные высоты и магию кулинарии этой страны, в связи с чем ее подруга с иронией называет путешествие Лиз углеводным туризмом.
Итальянцы показаны как тонкие ценители дивной кухни, для которых еда – это не просто поглощение пищи, а способ заявить о себе, подняться по социальной лестнице, кого-то утешить или возвысить. Рождественский ужин, ярко описанный в финальной сцене первой части произведения, поэтизирует не столько череду кулинарных шедевров, сколько уют домашнего очага и доносит до читателя трогательную атмосферу любви и нежной семейной заботы друг о друге. Вечерние посиделки за столиком в кафе являются не только приятным времяпрепровождением, но и подходящим условием для изучения иностранного языка, как это происходит у Лиз с преподавателем итальянского: ужинали « … исправляя ошибки за пиццей … . Новые идиомы, свежая моцарелла – словом приятное времяпрепровождение» (« … sharing pizzas and gentle grammatical corrections … . A lovely evening of new idioms and fresh mozzarella»)[8, с.9].
Героиня постепенно понимает, что итальянцы соотносят себя с окружающим миром именно через еду, которая имеет для них определенную семиотическую подоплеку, позволяющую передавать важные оттенки смыслов кулинарной картины мира. Знакомые римляне с энтузиазмом раскрывают Лиз важность пунктуальности и соблюдения ритуалов в еде, объясняя в какие дни, а иногда и часы принято употреблять те или иные блюда или напитки. Более того, выясняется, что в итальянском языке даже не используется слово «вкусная» по отношению к еде, для этого существуют понятия «buona» - «правильная» и «perfetto» - «изумительная» a priori предполагающие необыкновенное мастерство итальянских шефов. Таковы уроки застольной лингвистики и семиотики, полученные Лиз во время задушевных бесед с друзьями.
В тексте мемуаров широко представлены названия аутентичных блюд (паста, пицца, разнообразные десерты) многие из которых приводятся в итальянской орфографии: spaghetti alla carbonara, spaghetti cacio e pepe, risotto a funghi cappuccino, lampascione, bruschette. Перечисляются многочисленные национальные деликатесы и специалитеты: маринованные луковицы дикорастущего гиацинта, кишки новорожденного барашка, карпаччо в муссе из лесных орехов. В романе целые пассажи посвящены описанию еды. «Sausages of every imaginable size, color and derivation are stuffed like ladies’ legs into provocative stockings, swinging from the ceilings of the butcher shops. Lusty buttocks of hams hang in the windows, beckoning like Amsterdam’s high end hookers. The chickens look so plump and contended even in death that you imagine they offered themselves up for sacrifice proudly, after competing among themselves in life to see who could become the moistest and the fattest». («Под потолками мясных лавок раскачиваются колбасы невообразимого размера, цвета и состава, затянутые в соблазнительные «чулочки» точно дамские ножки. В витринах висят похотливые ветчинные ляжки, манящие как дорогие амстердамские проститутки. Цыплята даже после смерти выглядят столь упитанными и довольными, что начинает казаться будто они сами гордо взошли на жертвенный алтарь, победив в прижизненном соревновании за титул самого сочненького и жирненького») [8, с.129-130]. «…Rich, almost algae-green leaves of spinach, tomatoes so red and bloody they looked like a cow’s organs, and champagne-colored grapes with skins as tight as a showgirl’s leotard» («… темные, почти цвета зеленых водорослей листья шпината, томаты такие красные, словно налитые кровью, похожие на коровьи внутренности, и виноград цвета шампанского, туго затянуты в кожицу, словно гимнастка в трико»)[8, с.83]. «The mushrooms here are like big thick sexy tongues, and the prosciutto drapes over pizzas like a fine lace veil draping over a fancy lady’s hat». («Здешние грибы похожи на большие толстые похотливые языки, а ломтики прошутто, выложенные на пиццу точь - в - точь как тончайшая кружевная вуаль поверх роскошной дамской шляпки») [8, с. 130-131].
Подробно и с явным удовольствием Лиз рассказывает о посещении итальянских ресторанов, пиццерий и джелатерий. Целая глава посвящена восторженному, детальному и хронологически выверенному описанию первого завтрака героини в Риме [8, с.45-46]. Живописное изображение ланча в Трастевере[8,с.97] содержит перечисление блюд, начинающееся традиционными спагетти, сырами, красным вином и тирамису и заканчивающееся экзотическими артишоками и цветками цуккини. Гимн неаполитанской пицце – pizza paradise(райская пицца) с описанием рецепта и особенностями ее выпечки возводит приготовление пищи в божественный творческий акт [8, с.105-106].
Эти гастрономические натюрморты с откровенно избыточным предметным наполнением со всей очевидностью предстают в известной раблезианской интерпретации. Многочисленные подробности при перечислении блюд и продуктов питания непосредственно перекликаются с праздничными, «пиршественными» образами [1, с.361] совместной трапезы во время которой участники застолья, находясь в состоянии раскованного общения, впитывают новые знания и впечатления.
Упомянутое в тексте выражение на римском диалекте «Parla come magni» (говори, как ешь) [8, с.115] обнажает неразрывность и естественность процесса коммуникации и поглощения снеди, наполняющей участников пиршества не только жизненной энергией, но и чувством сопричастности общим событиям. Люди за столом – это единое общество, испытывающее яркие эмоции и переживания, где отношение человека к трапезе показывает, насколько он социален, а еда является культурным кодом, способствующим постижению одной из граней национального характера итальянцев.
Еще одной важной стадией приобщения героини к Италии – это ее любовь к «more beautiful than roses» [8, c.29] «прекраснее, чем розы» языку, который, с точки зрения Лиз, отличается от других европейских языков необыкновенной красотой, музыкальностью, мелодичностью, способностью передавать самые тонкие движения человеческой души: «And perhaps no language was ever more perfectly ordained to express human emotions…» («И, пожалуй, ни один язык не был более совершенным образом предназначен для выражения эмоций...»)[8, с.59]. Сравнение с розами, являющимися атрибутами Мадонны, вновь отсылает нас к представлениям об Италии как воплощению Эдемского сада на Земле. Образ языка трактуется как голос местной великолепной природы, проявляющийся в человеке. В благородном звучании языка угадывается национальный космос в миниатюре. «Как тела людей разных рас и народов адекватны местной природе, …так и звуки, что образуют плоть языка, в резонансе находятся со складом национальной Природины», поясняет этот удивительный феномен Г.Д. Гачев [2, с. 24].
Совершая исторический экскурс в прошлое итальянского языка, Лиз видит его уникальность в том, что это тщательно отобранный интеллектуалами эпохи Возрождения из множества диалектов красивый, благозвучный, живой образец словесности, имеющий очень древнюю историю: «No other European language has such an artistic pedigree» («Ни один другой европейский язык не имеет такой славной родословной»)[8, с.59]. Ее восхищает, что простые итальянцы («таксисты, мясники и чиновники») изъясняются на божественном языке с отголосками ступенчатых поэтических каденций шедевров нового сладостного стиля Данте и его «luminous contemporaries» («ярких современников») Боккаччо и Петрарки. Любование итальянским происходит поэтично и экзальтированно: «Every word was a singing sparrow, a magic trick, a truffle for me» («Каждое слово было как пение соловья, как волшебное заклинание, как сладкая конфета» [8, с.30]; «The words made me laugh in delight» («Слова заставляли меня смеяться от восторга»)[8, c.30].
Усиливает впечатление и тот факт, что очарование языком по необъяснимым причинам происходит не только у Лиз, но и у всех двенадцати, относящихся к разным возрастным, половым и национальным группам студентов языковой школы, в которой она обучается: «Not one of us can identify a single practical reason for being here» («Никто из нас не может назвать ни одну практическую причину нашего пребывания здесь»)[8, с.57]. Язык для них является подлинным кодом подсознания души, чего-то сокровенного и глубоко укорененного. Это универсальный язык il dolce stil nuovo (новый сладостный стиль) на котором Данте описывает Божественную сущность. Не случайно Лиз воспринимает процесс изучения итальянского языка как священнодействие – ритуал совместного поклонения итальянской речи. «You can’t even rightly call it «studying», the thing that we do. It’s more like a shared relishing of the Italian language, an almost worshipful ritual, and we’re always offering each other new wonderful idioms» («То, чем мы занимаемся едва ли можно назвать изучением. Скорее мы совершаем ритуал совместного поклонения итальянской речи – почти священнодействие – делимся новыми замечательными выражениями») [8, с. 74].
По всему тексту разбросаны итальянские слова, крылатые и слэнговые выражения, реплики: signorina, carina, bella, ciao, grazie, tifoso, magari, come, mafia, vendetta, casseroles, buon appetito, dolce vita, che casino; цитаты из Данте: « l’amor che move il sole e l’altre stelle» («любовь, которая движет солнце и прочие звезды»); пословицы: «un’ amica stretta», «L’ho provato sulla mia pelle», «Franza o Spagna, purchè se magna» и поговорки: «acqua e sapone», «una buona forchetta», «parla come mangi», «me la cavo». Целый микротекст [8, с.90-92] представляет собой эмоциональные комментарии футбольного болельщика по поводу игры любимой римской команды «Лацио». Это яркий образчик современного живого разговорного итальянского языка, с характерными вставками на английском, цитированием народной речи, обилием междометий, метких поговорок и табуированной лексики.
Героиня испытывает чрезвычайно горячее желание овладеть этим языком; день, когда не происходит приращение нового лингвистического знания, кажется ей прожитым зря. Даже футбольный матч между двумя римскими командами, очень колоритное событие как для местного жителя, так и для иностранца, она воспринимает и оценивает исключительно с точки зрения расширения своего словарного запаса: «My first soccer game with Luca Spaghetti was, for me, a delirious banquet of Italian language. I learned all sorts of new and interesting words in that stadium which they don’t teach you in school» («Мой первый футбольный матч с Лукой Спагетти был для меня безумным пиршеством итальянского языка. На стадионе я узнала множество новых и интересных слов которым не учат в школе») [8, с.90].
При всей любви к итальянскому, героиня осознает его иной, по сравнению с американским, языковой и культурный код, иную систему координат, которой придерживаются коренные жители Апеннинского полуострова. В этом плане весьма показателен пассаж о Passato Remoto (давнопрошедшее время), грамматической форме, отсутствующей в английском языке и употребляющейся в итальянском для описания давно минувших событий. Попытка понять этот феномен приводит героиню к когнитивному диссонансу: « … the Roman Forum is not remote, nor is it past. It is exactly as present … as I am.» (« … римский форум никакое не давнопрошедшее, и даже не прошедшее время. Он точно также существует в настоящем времени, как и я») [8, с.121]. Лиз видит, что в итальянском языке закреплено иное восприятие времени и пространства, подчеркивающее разницу в противоположно ориентированных культурных стандартах Европы и Америки.
Находясь в позиции наблюдателя, главная героиня пытается определить сущность итальянского национального характера и постичь разные сферы средиземноморского образа жизни: кухни, домашнего уклада, традиций и обычаев, воспитания, религии, политики, истории и культуры. У Лиз сформировано собственное упрощенное схематизированное представление об итальянцах, которое она готова распространить на всех представителей этого народа и которое строится на бинарном противопоставлении национальных черт американцев и итальянцев по следующим критериям: рациональное – чувственное, активное – пассивное, протестантское – католическое, центральное – периферийное.
Поначалу, лейтмотивной чертой итальянцев Лиз считает их южную экзальтированность, природную склонность к внешним эффектам и красоте, гламурность и сексуальность. Героиня, придерживающаяся сдержанного стиля в одежде, который она характеризует как «Stevie Nicks Goes to Yoga Class in Her Pajamas» («Стиви Никс ходит на занятие йогой в пижаме»)[8, c.137], невольно обращает внимание на коренную римлянку, словно сошедшую с обложки глянцевого журнала, внешний вид которой приводит жительницу Нью-Йорка к мысли о том, что Рим – не ее город. Это была «… a fantastically maintained, jewelry-sodden forty-something dame wearing four-inch heels, a tight skirt with a slit as long as your arm, and those sun-glasses that look like race cars (and probably cost as much). She was walking her little fancy dog on a gem-studded leash, and the fur collar on her tight jacket looked as if it had been made out of the pelt of her former little fancy dog. She was exuding an unbelievably glamorous air of: You will look at me, but I will refuse to look at you» («…фантастически ухоженная, увешанная драгоценностями дама сорока с лишним лет на четырехдюймовых каблуках, в обтягивающей юбке с разрезом длиной с руку и солнцезащитных очках, которые выглядят как гоночные авто (и, вероятно, стоят столько же»). Она выгуливала свою забавную собачку на усыпанном драгоценными камнями поводке, и меховой воротник на ее обтягивающей куртке выглядел так, словно был сделан из шкуры ее бывшей маленькой забавной собачки. Она излучала необыкновенную гламурность: «Ты будешь смотреть на меня, а я на тебя и не подумаю») [8, с.136-137].
Однако постепенно Лиз начинает понимать, что итальянцы исповедуют идеал красоты, который воплощается не только в эффектной внешности человека или великолепии произведения искусства, но является способом выживания в атмосфере хаоса, возможностью спрятаться от грубой и уродливой повседневности за вывеской благополучия и комфорта. Выясняется, что они могут простить любые человеческие слабости и ошибки, принять некомпетентность президентов, профессоров, воротил бизнеса, но физически не выносят фальши в музыке и оперном пении, неточности в выполнении танцевальных движений артистами балета, просчеты кинорежиссеров, погрешности в крое одежды, допущенные портными. «In a world of disorder and fraud, sometimes only beauty can be trusted. Only artistic excellence is incorruptible» («В мире беспорядка и мошенничества можно доверять, пожалуй, только красоте») – делится своими размышлениями один из приятелей Лиз [8, с.152].
Героиня с удивлением замечает, что итальянцы совершенно комфортно ощущают себя носителями двойной и даже тройной идентичности: локальной и национальной, не видя в этом какого-либо противоречия. В первую очередь они считают себя римлянами, во-вторую – итальянцами, и в третью – европейцами («… these guys consider themselves Romans first, Italians second and Europeans third») [8, с. 77]. Собеседник Лиз объясняет, что укоренившаяся региональная замкнутость совершенно не мешает итальянцу ощущать себя принадлежащим одновременно к сообществу микро и макроуровня.
Вместе с тем, доминирующим является ощущение включенности в пространство именно «малой родины», когда человек чувствует себя членом сообщества собственного города. Лексема «родной город» обретает осязаемую конкретику, включающую здания, монументы, деревья, родственников и близких людей. Для стабильного существования итальянцам необходимы старые устойчивые человеческие связи и ритуальные, выдержавшие проверку временем действия: « … friends are the same friends he’s had since childhood, and all from the same neighborhood. They watch the soccer matches together every Sunday – either at the stadium or in bar(if the Roman teams are playing away) – and then they all return separately to the homes where they grew up, in order to eat the big Sunday afternoon meals cooked by their respective mothers and grandmothers» («Друзья с детства из одного квартала. Вместе, каждое воскресенье они смотрят футбольные матчи на стадионе или в баре (если римские команды играют на выезде) – потом каждый возвращается в свой дом, где вырос на большой воскресный обед, приготовленный их мамой или бабушкой»)[8, с.77-78]. Эту национальную особенность отмечает Шевлякова Д.А, когда пишет, что концепция «родного города» у итальянцев «связана с топосом навсегда утраченного, счастливого и безмятежного детства, когда «малая родина» замещала собой весь мир, и не было нужды в остальном человеческом сообществе» [7, с. 24].
Лиз констатирует, что в отличие от дисциплинированных и пунктуальных американцев, итальянцы ведут себя достаточно свободно по отношению к правилам, порядкам или обязательствам перед другими людьми. Время, как и количество ингредиентов в кулинарных рецептах, фиксируется ими лишь приблизительно. Она и сама, обычно неукоснительно выполняющая все предписания и рекомендации, неожиданно для себя обнаруживает, что в Италии теряет ощущение времени, в частности, когда забывает о назначенном ей уроке итальянского языка.
Комично выглядит сцена, демонстрирующая присущую итальянцам прокрастинацию, когда Лиз, многократно и безуспешно пытавшаяся получить по почте посылку с книгами, обнаруживает полное отсутствие у служащей отделения связи какого-либо намерения работать: «The Roman postal employee is not at all happy to have her phone call to her boyfriend interrupted by my presence. … As I try to speak logically about my missing box of books, the woman looks at me like I’m blowing spit bubbles. «Maybe it will be here next week?» I asked her in Italian. She shrugs: «Magari». Another untranslatable bit of Italian slang, meaning something between «hopefully» and «in your dreams, sucker». (Работница римской почты очень недовольна, что я прервала ее телефонный разговор с бойфрендом. … Пока я пытаюсь логично объяснить, что посылка с книгами пропала, женщина смотрит на меня так, будто я пузыри пускаю. «Может она придет через неделю?» Она пожимает плечами: «Magari». Еще одно непереводимое итальянское словечко, означающее что-то от «возможно» до «размечталась, наивная») [8, с.101].
На родине Лиз время считается системой, с помощью которой поддерживается порядок в организации мобильной и динамичной человеческой жизни. Поведение с хроническим откладыванием дел «на потом» считается иррациональным. Национальная специфика восприятия времени итальянцами объясняется неторопливостью их бытия, невысокой значимостью планирования событий, желанием жить здесь и сейчас, наслаждаясь сегодняшним днем в условиях «вечной сиесты». Живое человеческое общение и межличностные отношения гораздо в большем приоритете, чем намеченные цели и сроки.
Итальянцы пытаются дать этому феномену религиозное, ориентированное на католицизм, объяснение, апеллируя к тому, что человек не может быть капитаном собственной судьбы («the captain of his own destiny»), как полагают протестанты. «How can any of us know whether we will be free for dinner next Thursday night, given that everything is in God’s hands and none of us can know our fate?» (Как мы можем знать, будем ли мы свободны к ужину вечером следующего четверга, ведь все в руках Божьих и судьба наша нам неведома)[8, с.101]. Перфекционизм протестантов, ассоциирующийся с успешностью, трудолюбием, аккуратностью, но и удерживающий человека в плену собственных убеждений и иллюзий противопоставляется присущей католикам прокрастинации.
Заключение
Итальянская идентичность в исследуемом романе представлена пестрой мозаикой из объектов и явлений разных сфер жизни: истории, культуры, социального уклада, религии, кухни. Эти составляющие европейской картины мира кажутся необыкновенно привлекательными для отвергающей хаос и абсурд жизни большого города главной героини произведения эскапизм которой обусловлен поиском хрупкого варианта спасения в чужом пространстве, воспринимаемого ею как утопический рай.
Совершая паломничество к месту поклонения красоте, изящной словесности и искусству жить в свое удовольствие героиня преодолевает границу, структурирующую горизонтальную модель мира, в которой доминирующими оказываются такие оппозиции как: «Америка - Европа», «Нью-Йорк - Рим», «центральное - периферийное», «протестанство - католичество» и др. Вертикальная модель, ориентированная на традиционные религиозные представления о мире и человеке, формируется, в основном, оппозициями «рай - ад», «божественное - человеческое».
Однако героиня ощущает себя чужой в этой зоне утопического благополучия, не может преодолеть духовный кризис и обрести эстетический идеал. Точки соприкосновения с обитателями иного пространства оказались случайными и кратковременными, побуждающие героиню к дальнейшему движению в поисках целей и смыслов бытия.
Список литературы:
- Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М.: Эксмо, 2015.- 640с
- Гачев Г.Д. Космо-Психо-Логос: Национальные образы мира, М., 2007.-512с.
- Лихачев Д.С. Поэзия садов. К семантике садово-парковых стилей. Сад как текст. М.: «Согласие», ОАО «Типография «Новости», 1998. – 356с.
- Ощепков А.Р. Имагология//Знание. Понимание. Умение. 2010. №1. С.251-253
- Cтепанов Ю.С. Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования. М.: Языки русской культуры, 1997.- 824 с.
- Хорев В.А. Польша и поляки глазами русских литераторов: имагологические очерки/ Институт славяноведения (Российская академия наук). М. Индрик, 2005.- 231 с.
- Шевлякова Д.А. Доминанты национальной идентичности итальянцев. Автореф. д-ра культурологии. М., 2011.- 46с.
- Gilbert E. Eat, pray, love: one woman’s search for everything across Italy, India and Indonesia/ Riverhead Books New York, 2010. - 445 c.
